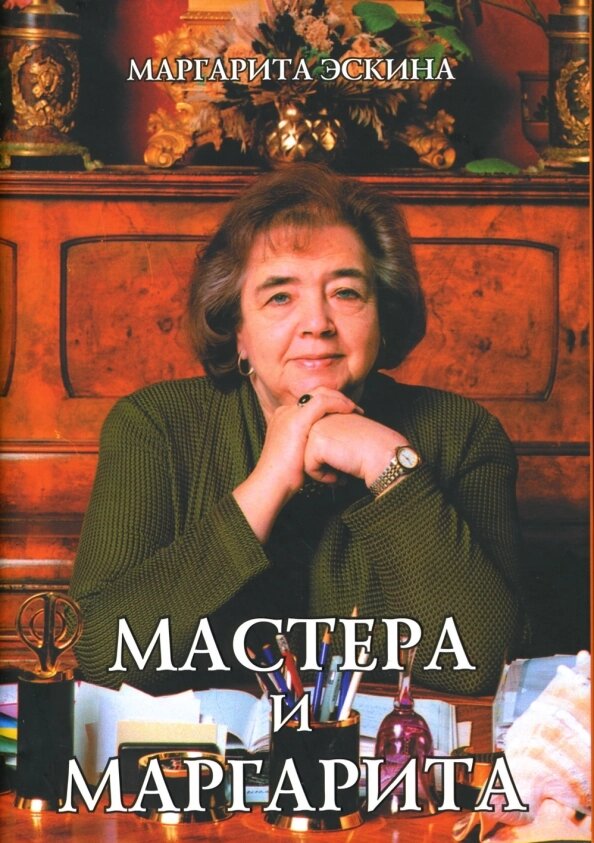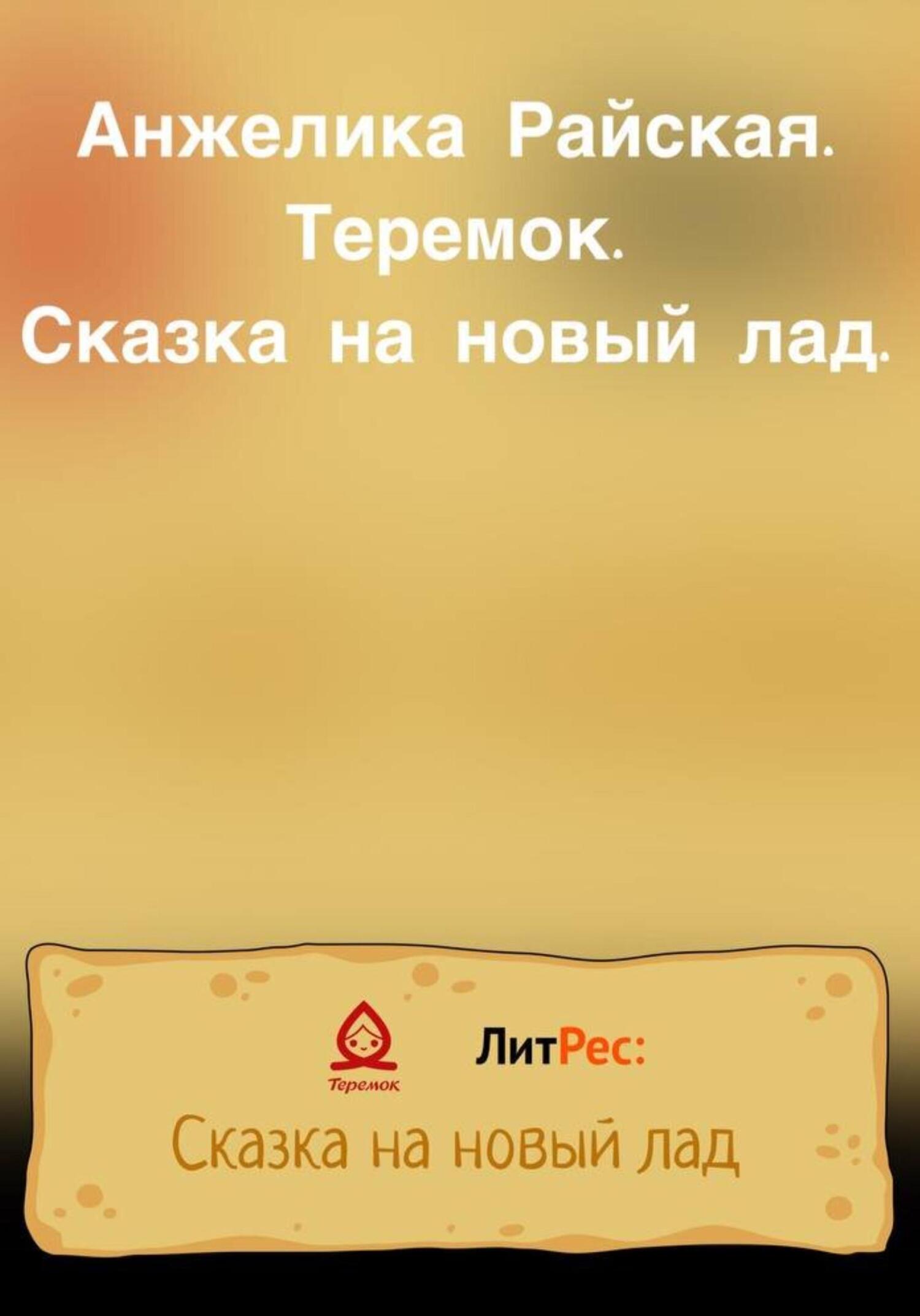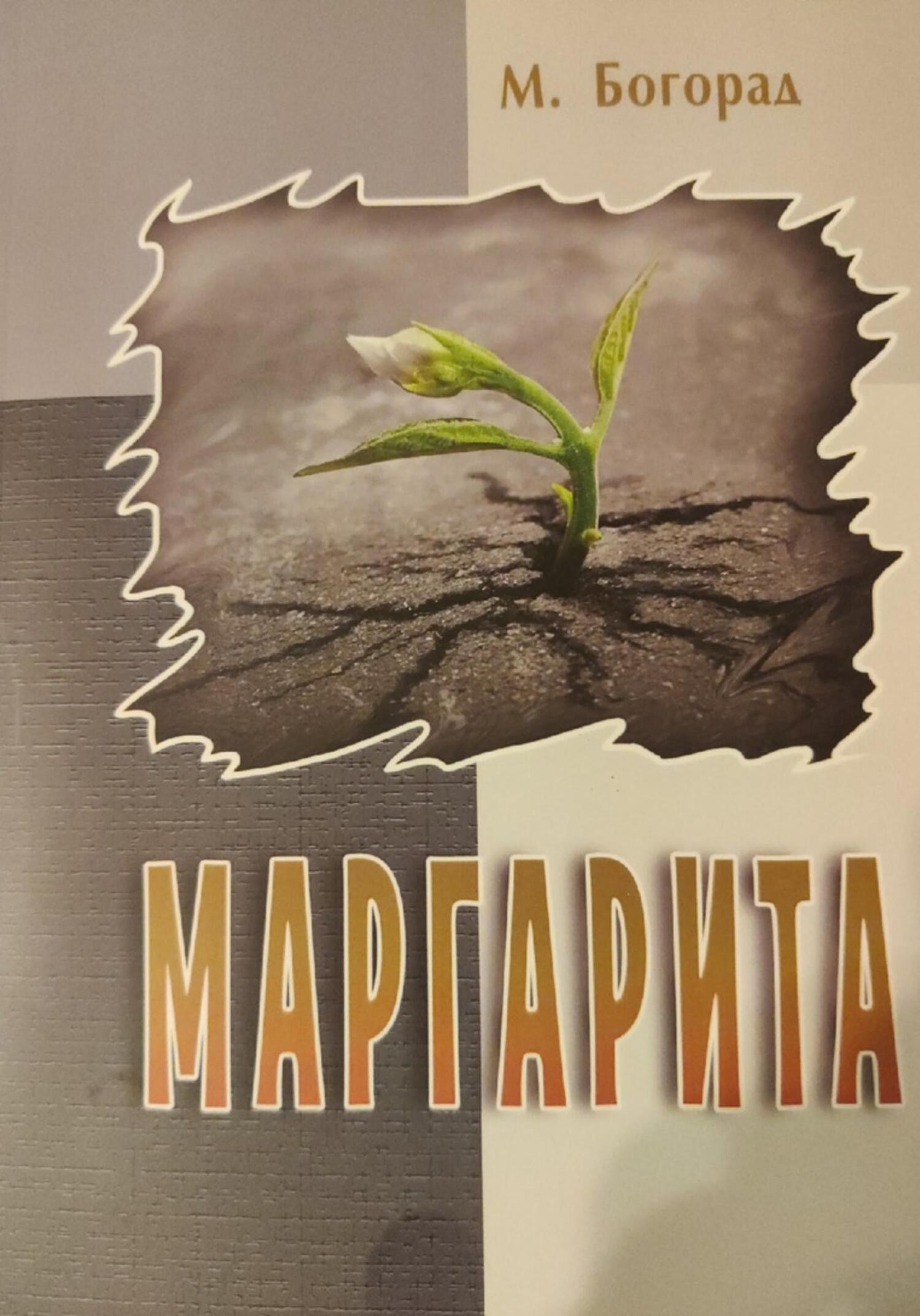на вытянутой руке, и вдруг бросила на стол, откинулась на стуле так, что он заскрипел, и в голос расхохоталась. От смеха краешек занавески выскользнул из-под лямки лифчика, открыв грязную грудь в морщинах и ежевике.
— Ой, не могу, ой, девочки, насмешили, ой, не убивайте — умру от хохота.
— Ты чего? — спросила Рузанка, осторожно улыбаясь.
— Только не говори мне, что ты его жена, умоляю, — Гайкушка тыкала жирным пальцем почти в лицо Рузанне. — Ой, девочки, убили вы меня. Мне этого кобеля уже пятый раз приносят и каждый раз говорят — муж. Он что у вас, пять раз в месяц женится? Ой, убили меня, закопали, не могу. Короче, на него ничего делать не буду. Я на него уже и делала, и разделывала, и на развод, и на приворот, на что хочешь, я уже даже не помню, что у него там последнее сделано. Ой, не просите, не могу, не буду ничего делать, мне его уже жалко, бедный мужик, — продолжала хохотать Гайкушка.
Рузанка побледнела и встала. Молча взяла фотографию со стола, молча оставила на столе сто рублей и вышла за калитку.
В шевелюре кипариса щебетал наглый кавказский дрозд. На рассохшейся лавочке осталась лежать гадальная книга Гайкушки. Приглядевшись, я прочитала заглавие. «Собрание сочинений. В. И. Ленин. Том четвертый».
Рузанкин джип медленно сползал по гравийке мимо недостроенных развалюх, грязных свиней, чумазых детей и собак, огородов с облезлыми пальмами, посаженными просто для красоты, поскольку ничего на этих пальмах никогда не созревало.
Мотог купил этот джин Рузанке, чтобы вымолить прощение после двухнедельного загула с тремя первокурсницами из Сыктывкара.
Чтобы его купить, мужу пришлось продать половину материных коров, благо сколько у матери было коров, она и сама не помнила — они и так целыми днями слонялись по чужим огородам, объедая листья с хурмы, терялись, забредая случайно в невысокие местные горы, и пялились грустно прямо в глаза водителям, развалившись с телятами посреди федеральной трассы.
На следующий день мы с Фаустом шли на старый коровник, к границе — понырять за мидиями. Из-за поворота, весело вздыбливая длинным носком лаковых туфель олимпийскую пыль, показался Мотог.
— Наша Таня очень громко плачет, уронила Таня в речку мячик. Скоро выйдет на свободу Хачик, ой, мама-джан, и тебе он купит новый мячик! — пел он приятным тенором вслед молодой отдыхающей в белом парео.
— Что, Мотог, помирились с Рузанкой? — спросила я.
— Помирились, куда она денется! — Мотог, не сводя плотоядного взгляда с розовых ляжек, зашаркал вслед за парео.
Прилавок Рузанки стоял по дороге к нашему пляжу. Она торговала местными травами, волшебно излечивающими все: бесплодие, наркоманию, геморрой и глисты.
В ушах у Рузанки сверкали жемчужины, похожие на коконы от шелкопрядных червей.
— Мотог подарил? — спросила я.
— Ага. Помирились мы, короче. А что я должна переживать, что он свой экзотический куст какой-то кляче подсунул понюхать? Пусть лучше она переживает!
— Эта позиция заслуживает рассмотрения, — сказала я, не найдя, что сказать.
Фауст внимательно разглядывал похожие на шелкопрядные коконы сережки. Мы двинулись дальше на пляж.
— Это Грачика жены сережки, — вдруг сказал Фауст, ловко прыгая по булыжникам.
— Грачика? Которого грабанули? — я закрыла лицо руками. — Какой ужас! Что будем делать?
— За мидиями нырять, что еще?
— Рузанке не скажем?
— Рузанке? О чем?
И действительно — о чем?
Мы с Фаустом опустили глаза. По безлюдному пляжу брела заблудившаяся корова, бренча колокольчиком. Посмотрев на нас, она понимающе замычала. Дома ее ждал ревнивый бык. У которого, кроме нее, в этом городе было еще очень много коров — сколько, он даже не помнил.
Бачишь, кума, це нигр!
Кубань — это край особой судьбы, это наша Сицилия, это наш Техас…
Из телерепортажа Алексея Пивоварова
Была типичная на Кубани поздняя осень. Рыжеусая чомга-поганка уже бросила вместе с птенцами свое гнездо из рогоза, перемокли на черной земле бодылки стерни, рак давно потерял ржавый панцирь и забился до первой весны под корягу, но высокое солнце еще отражалось в лиманах, и тихонечко зацветала офонаревшая от ноябрьской жары сирень.
Согреваемые солнцепеком, мы бредем вдоль дороги — угрюмый водитель Гагр, грозный грек со сломанным носом, и всегда молчаливый Андрюха, высокий, худой оператор, в заправленном в черные джинсы вязаном свитере — и тут мне звонит из Москвы отдел городов.
— Скажи, — говорят города, — у вас есть на Кубани какие-нибудь хутора?
— Ну, есть, — говорю, — хутора. Фактически, кроме хуторов, ничего и нет.
— Тогда подготовьте какой-нибудь хутор поприличней, только не спрашивай, для чего. И чтобы у него было чумовое название. В строжайшем секрете! Отвечаешь своим будущим!
Все понятно, думаю я. Раз в строжайшем секрете — значит, Путин прилетит. Только этого нам не хватало.
Мы с парнями сели в свой жигуленок, знающий жизнь не по бумажным фантикам, достали карту. Названия как названия. Старонижестеблиевская, Старые Кирпили, Новые Кирпили, хутор Сухая Щель, хутор Красный Конь, хутор Веселая Жизнь. Ни одного чумового названия.
И вдруг Гагр тычет пальцем в дорожный знак прямо у нашего жигуленка. «X. Казаче-Малеванный».
На следующий день хутор Казаче-Малеванный стоило переименовать в хутор Веселая Жизнь, Красный Конь и Сухая Щель одновременно. Там началась паранойя.
Еще раньше, чем я сама, в крае узнали, что в Малеванном будет телемост с президентом. «Измена!» — спинным мозгом почувствовали краевые начальники.
Рано-вранци поутру в мирные мазанки хуторян постучали. Мужчины в серых костюмах и женщины в розовых кофточках раздали хуторянам «анкэты» и под крики пузатых младенцев, вопли недоеных телок и стоны некормленых казаков заставили тут же их заполнять.
— Нэвжеш сызнова?! — майским градом ударило в головы потомкам недораскулаченных.
Вопросы в анкетах были примерно такие: «Чем вы недовольны? Чем недовольна ваша родня? Чем недовольны соседи? Вы писали Путину? А кто писал?» И подпись — «Администрация».
Потом позвонили мне, какое-то краевое начальство. Разговаривали со мной строго. Примерно так:
— Мы все не дети. И ты не дети. Хорош валять дурака, колись давай, почему Казаче-Малеванный? Кто писал, кто жаловался, кто порочил кубанскую честь? Шо газа нету, так его нигде нету. Шо надои упали, так они везде упали.
— Да надои тут ни при чем! — попискивала я.
— Вот и я бачу, шо нэ при чем. И Путин ваш шо опять же с теми надоями сделает? Сам доить будэ?
— Не будет.
— Вот и я бачу, шо не будэ. А шо хуторскую школу не достроили, так то жиды! Завтра утром усих жидив посадим, а кого не посадим